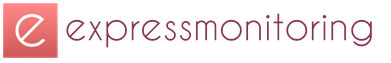Психологизм - совокупность средств, используемых в литературном произведении для изображения внутреннего мира персонажа его мыслей, чувств, переживаний. Это такой способ создания образа, способ воспроизведения и осмысления характера, когда психологическое изображение становится основным.
Способы изображения внутреннего мира персонажа можно разделить на изображение «извне» и изображение «изнутри». Изображение «изнутри» осуществляется через внутренний монолог, воспоминания, воображение, психологический самоанализ, диалог с самим собой, дневники, письма, сны. В этом случае огромные возможности дает повествование от первого лица. Изо-бражение «извне» - описание внутреннего мира героя не непосредственно, а через внешние симптомы психологического состояния. Мир, окружающий человека, формирует настроение
и отражает его, влияет на поступки и мысли человека. Это детали быта, жилья, одежды, окружающая природа. Мимика, жесты, речь на слушателя, походка - все это внешние проявления внутренней жизни героя. Способом психологического анализа «извне» может быть портрет, деталь, пейзаж и т. д.
Например, важным средством психологизма Достоевского является описание снов героя, позволяющих автору глубже проникнуть в подсознание героя. Так, в романе «Преступление и наказание» представлены четыре сна Раскольникова. Они ярко демонстрируют эволюцию теории героя от полной уверенности в ее правильности до ее крушения.
Народность - отражение в литературе жизни, творчества (а также, согласно некоторым концепциям, «коренных интересов») народа.
Пушкин был одним из первых, кто определил народность литературы. «С некоторых пор вошло у нас в обыкновение говорить о народности, требовать народности, жаловаться на отсутствие народности в произведениях литературы, но никто не думал определить, что разумеет он под словом народность... - писал он. - Народность в писателе есть достоинство, которое вполне может быть оценено одними соотечественниками - для других оно или не существует, или даже может показаться пороком... Климат, образ правления, вера дают каждому народу особенную физиономию, которая более или менее отражается в зеркале поэзии. Есть образ мыслей и чувствований, есть тьма обычаев, поверий и привычек, принадлежащих исключительно какому-нибудь народу».
Классики русской критики не сводили народность к изображению только близких каждому писателю национальных характеров. Они полагали, что, даже показывая жизнь другого народа, писатель может оставаться подлинно национальным, если смотрит на него глазами своего народа. Знаменитый критик Белинский высказал мысль о том, что истинно народным произведение мо-жет быть, если в нем полностью отражена эпоха.
Историзм - способность художественной литературы передавать живой облик исторической эпохи в конкретных человеческих образах и событиях. В более узком смысле историзм произведения связан с тем, насколько верно и тонко художник понимает и изображает смысл исторических событий. Историзм присущ всем истинно художественным произведениям, независимо от того, изображают они современность или далекое прошлое. Примерами могут служить «Песнь о вещем Олеге» и «Евгений Онегин» Пушкина.
Трагическое и комическое. Сатира, юмор, ирония, сарказм. Гротеск
Трагическое - эстетическая категория, для которой характерно наличие неразрешимого конфликта. В центре внимания, как правило, страдания и гибель героя или его жизненных ценностей. В отличие от печального или ужасного, трагическое вызывается не случайными внешними силами, а проистекает из внутренней природы человека. Трагическое предполагает свободное действие человека, в результате которого он обрекает себя на страдания или смерть. Казалось бы, суть трагедии Гамлета (трагедия Шекспира «Гамлет») - в тех событиях, которые с ним произошли. Но подобные несчастья обрушились и на Лаэрта. Однако при этом нельзя говорить о том, что Лаэрт - трагический герой, поскольку он пассивен, а Гамлет сам, сознательно идет навстречу трагическим обстоятельствам. Он выбирает схватку с «морем бед». Именно об этом выборе и идет речь в знаменитом монологе:
Быть или не быть, вот в чем вопрос.
Достойно ль
Смиряться под ударами судьбы,
Иль надо оказать сопротивленье
И в смертной схватке с целым морем бед
Покончить с ними? Умереть. Забыться.
Комическое - средство раскрытия жизненного противоречия путем осмеяния. Основные виды комического: юмор, ирония, сатира, сарказм.
В основе комического всегда лежит какое-то несоответствие, нарушение нормы. Это несоответствие может быть на языковом уровне (нелепицы, оговорки, имитация дефекта речи, акцента, не к месту звучащая иностранная речь), на уровне сюжетной ситуации (недоразумение, одного героя принимают за другого, неузнавание, ошибочные действия), на уровне характера (противоречие между самооценкой и произведенным впечатлением, между словом и делом, между желаемым и действительным и т. д.). Так, главный герой комедии Грибоедова «Горе от ума» Чацкий часто попадает в комические ситуации. Его обличительные речи не всегда уместны. Впервые увидев Софью после долгой разлуки, Чацкий, влюбленный в нее, почему-то начинает разговор с нападок на ее родственников и т. д.
Юмор - особый вид комического, изображение героев в смешном виде. В отличие от сатиры, юмор - смех веселый, добродушный, помогающий человеку освободиться от предрассудков, ошибочных убеждений, недостатков. Так, гоголевская повесть «Ночь перед Рождеством» буквально пронизана юмором (описание капризной красавицы Оксаны, Чуба и т. д.).
Ирония - особый вид комического, осмеяние, насмешка. При иронии отрицательный смысл скрыт за внешней положительной формой высказывания. Например, в «Мертвых душах» Гоголь иронически изображает помещиков и чиновников. Ирония в характеристике Ноздрева заключается в противоречии между ее первой частью, где подобные Ноздреву люди называются хорошими товарищами, и последующими словами о том, что они «при всем том бывают весьма больно поколачиваемы».
Сатира - особый вид комического: высмеивание, разоблачение отрицательных сторон жизни, изображение их в нелепом, карикатурном виде. Например, явно сатирично описан в «Мастере и Маргарите» Булгакова «дом Грибоедова», где размещалась ассоциация писателей МАССОЛИТ. О литературе здесь мало что напоминает, а все двери увешаны табличками типа «Рыбно-дачная секция».
Сарказм - особый вид комического, язвительная насмешка, высшая степень иронии, когда негодование высказывается вполне открыто. Например, с сарказмом говорит Лермонтов в стихотворении «Дума» о своем поколении: «Богаты мы, едва из колыбели, Ошибками отцов и поздним их умом...», и заканчивет едким сравнением отношения к нему будущих поколений с «Насмешкой горькою обманутого сына Над промотавшимся отцом».
Гротеск - литературный прием, соединение реального и фантастического, создающее абсурдные ситуации, комические несоответствия. Например, гротеск активно используется Салтыковым-Щедриным в «Истории одного города». По сути, все события, происходящие в городе, являются гротеском. Жители города, глуповцы, «чувствуют себя сиротами» без градоначальников и считают «спасительной строгостью» бесчинства Органчика, который знает только два слова - «не потерплю» и «разорю». Вполне приемлемыми кажутся горожанам такие градоначальники, как Прыщ с фаршированной головой или француз Дю-Марио. Однако своей кульминации абсурдность достигает при появлении Угрюм-Бурчеева, задумавшего захватить всю вселенную. Стремясь реализовать свой «систематический бред», Угрюм-Бурчеев пытается все в природе уравнять, так устроить общество, чтобы все в Глупове жили по придуманному им самим плану, что в результате приводит к разрушению города его же жителями.
Язык художественного произведения. Изобразительно-выразительные средства в художественном произведении. Звукопись
Слово «символ » происходит от греческого слова symbolon, что означает «условный язык». В Древней Греции так называли половины разрезанной надвое палочки, которые помогали их обладателям узнать друг друга, где бы они ни находились. Символ – предмет или слово, условно выражающее суть какого-либо явления.
Символ заключает в себе переносное значение, этим он близок метафоре. Однако эта близость относительна. Метафора – более прямое уподобление одного предмета или явления другому. Символ значительно сложнее по своей структуре и смыслу. Смысл символа неоднозначен и его трудно, чаще невозможно раскрыть до конца. Символ заключает в себе некую тайну, намек, позволяющий лишь догадываться о том, что имеется в виду, о чем хотел сказать поэт. Истолкование символа возможно не столько рассудком, сколько интуицией и чувством. Создаваемые писателями-символистами образы имеют свои особенности, у них двуплановое строение. На первом плане – определенное явление и реальные детали, на втором (скрытом) плане – внутренний мир лирического героя, его видения, воспоминания, рождаемые его воображением картины. Явный, предметный план и потаенный, глубинный смысл сосуществуют в символистском образе символистам особенно дороги духовные сферы. К проникновению в них они и стремятся.
Подтекст – неявный смысл, который может не совпадать с прямым смыслом текста; скрытые ассоциации, основанные на повторе, сходстве или контрасте отдельных элементов текста; вытекает из контекста.
Деталь – выразительная подробность в произведении, несущая значительную смысловую и эмоциональную нагрузку. Художественные детали: обстановка, внешность, пейзаж, портрет, интерьер.
1.10. Психологизм. Народность. Историзм.
В любом художественном произведении писатель так или иначе говорит читателю о чувствах, переживаниях человека. Но степень проникновения во внутренний мир личности бывает разная. Писатель может только фиксировать какое-либо чувство персонажа («он испугался»), не показывая при этом глубину, оттенки этого чувства, причины, вызвавшие его. Такое изображение чувств персонажа нельзя считать психологическим анализом. Глубокое проникновение во внутренний мир героя, подробное описание, анализ различных состояний его души, внимание к оттенкам переживаний называется психологическим анализом в литературе (часто его называют просто психологизмом ). Психологический анализ появляется в западноевропейской литературе во второй половине XVIII века (эпоха сентиментализма , когда особенно популярны эпистолярные и дневниковые формы. В начале ХХ века в работах З. Фрейда и К. Юнга разрабатываются основы глубинной психологии личности, открывается сознательное и бессознательное начало. Эти открытия не могли не повлиять на литературу, в частности на творчество Д. Джойса и М. Пруста.
В первую очередь о психологизме говорят при анализе эпического произведения, поскольку именно здесь у писателя больше всего средств изображения внутреннего мира героя. Наряду с прямыми высказываниями персонажей здесь есть речь повествователя, и можно прокомментировать ту или иную реплику героя, его поступок, раскрыть истинные мотивы его поведения. Такая форма психологизма называется суммарно обозначающей .
В тех случаях, когда писатель изображает только особенности поведения, речи, мимики, внешности героя. Это косвенный психологизм, поскольку внутренний мир героя показан не непосредственно, а через внешние симптомы , которые могут быть не всегда однозначно интерпретированы. К приемам косвенного психологизма относятся различные детали портрета (внутренняя ссылка на соответствующую главу), пейзажа (внутренняя ссылка на соответствующую главу), интерьера (внутренняя ссылка на соответствующую главу) и др. К приемам психологизма относится также и умолчание . Подробно анализируя поведение персонажа, писатель в какой-то момент вообще ничего не говорит о переживаниях героя и тем самым заставляет читателя самого проводить психологический анализ. Например, роман Тургенева «Дворянское гнездо» завершается так: «Говорят, Лаврецкий посетил тот отдаленный монастырь, куда скрылась Лиза, – увидел ее. Перебираясь с клироса на клирос, она прошла близко мимо него, прошла ровной, торопливо-смиренной походкой монахини – и не взглянула на него; только ресницы обращенного к нему глаза чуть-чуть дрогнули, только еще ниже наклонила она свое исхудалое лицо – и пальцы сжатых рук, перевитые четками, еще крепче прижались друг к другу. Что подумали, что почувствовали оба? Кто узнает? Кто скажет? Есть такие мгновения в жизни, такие чувства... На них можно только указать – и пройти мимо». По жестам Лизы сложно судить об испытываемых ею чувствах, очевидно только, что она не забыла Лаврецкого. Как смотрел на нее Лаврецкий, остается неизвестно читателю.
Когда же писатель показывает героя «изнутри», как бы проникая в сознание, душу, непосредственно показывая, что происходит с ним в тот или иной момент. Такой тип психологизма называется прямым . К формам прямого психологизма может быть отнесена речь героя (прямая: устная и письменная; косвенная; внутренний монолог), его сны. Рассмотрим каждую более подробно.
В художественном произведении речам персонажей обычно отводится значительное место, но психологизм возникает только в том случае, когда персонаж подробно говорит о своих переживаниях, излагает свои взгляды на мир. Например, в романах Ф.М. Достоевского герои начинают предельно откровенно говорить друг с другом, как бы исповедуясь во всем. Важно помнить, что герои могут общаться не только в устной, но и в письменной форме. Письменная речь отличается большей продуманностью, здесь значительно реже встречаются нарушения синтаксиса, грамматики, логики. Тем более они значимы, если появляются. Например, письмо Анны Снегиной (героини одноименной поэмы С.А. Есенина) Сергею внешне спокойно, но при этом бросаются в глаза ничем не мотивированные переходы от одной мысли к другой. Анна фактически признается ему в любви, ведь она пишет только о нем. Она не говорит прямо о своих чувствах, но прозрачно намекает на это: «Но вы мне по-прежнему милы, / Как родина и как весна». Но герой не понимает смысла этого письма, поэтому считает его «беспричинным», но интуитивно понимает, что Анна, может быть, уже давно его любит. Неслучайно после чтения письма меняется рефрен: сначала «Мы все в эти годы любили, // Но мало любили нас»; затем «Мы все в эти годы любили, // Но, значит, // Любили и нас».
Когда герой с кем-то общается, часто возникают вопросы: до какой степени он откровенен, не преследует ли он какую-то цель, хочет ли произвести нужное впечатление или наоборот (как Анна Снегина) скрыть свои чувства. Когда Печорин рассказывает княжне Мери о том, что он изначально был хорошим , но его испортило общество, и в нем в итоге стало жить как бы два человека, он говорит правду, хотя при этом, может быть, и думает о впечатлении, которое произведут на Мери его слова.
Во многих произведениях XIX века встречаются отдельные мысли героя, однако это еще не говорит о том, что писатель глубоко и полно раскрывает его внутренний мир. Например, Базаров во время разговора с Одинцовой думает:«Ты кокетничаешь <...>, ты скучаешь и дразнишь меня от нечего делать, а мне…» Мысль героя обрывается «на самом интересном месте», что же именно он испытывает, так и остается неизвестным. Когда же показано развернутое размышление героя, естественное, искреннее, спонтанное, возникает внутренний монолог , в котором сохраняется речевая манера персонажа. Герой размышляет о том, что его особенно волнует, интересует, когда ему нужно принять какое-то важное решение. Выявляются основные темы, проблемы внутренних монологов того или иного персонажа. Например, в романе Толстого «Война и мир» князь Андрей чаще размышляет о своем месте в мире, о великих людях, об общественных проблемах, а Пьер – об устройстве мира в целом, о том, что такое правда, истина. Мысли подчиняются внутренней логике персонажа, поэтому можно проследить, как он пришел к тому или иному решению, умозаключению. Такой прием был назван Н.Г. Чернышевским диалектикой души : «Внимание графа Толстого более всего обращено на то, как одни чувства и мысли разливаются из других, ему интересно наблюдать, как чувство, непосредственно возникающее из данного положения или впечатления, подчиняясь влиянию воспоминаний и силе сочетаний, представляемых воображением, переходит в другие чувства, снова возвращается к прежней точке и опять и опять странствует, изменяясь, по всей цепи воспоминаний; как мысль, рожденная первым ощущением, ведет к другим мыслям, увлекается все дальше и дальше, сливает грезы с действительными ощущениями, мечты о будущем с рефлексиею о настоящем».
От внутреннего монолога следует отличать поток сознания , когда мысли и переживания героя хаотичны, никак не упорядочены, логическая связь совершенно отсутствует, связь здесь ассоциативная. Этот термин был введен У. Джемсом, наиболее яркие примеры его использования можно видеть в романе Д. Джойса «Улисс», М. Пруста «В поисках утраченного времени». Считается, что этот прием открывает Толстой, используя его в особых случаях, когда герой находится в полусне, полубреду. Например, сквозь сон Пьер слышит слово «запрягать», которое у него превращается в «сопрягать»: «Самое трудное (продолжал во сне думать или слышать Пьер) состоит в том, чтобы уметь соединять в душе своей значение всего. Все соединить? – сказал себе Пьер. – Нет, не соединить. Нельзя соединять мысли, а сопрягать все эти мысли – вот что нужно! Да, сопрягать надо, сопрягать надо ! – с внутренним восторгом повторил себе Пьер, чувствуя, что этими именно, и только этими словами выражается то, что он хочет выразить, и разрешается весь мучащий его вопрос.
– Да, сопрягать надо, пора сопрягать.
– Запрягать надо, пора запрягать, ваше сиятельство! Ваше сиятельство, – повторил какой-то голос, – запрягать надо, пора запрягать…» (Т.3. Ч. 3, Гл. IX.)
В «Преступлении и наказании» Достоевского сны Раскольникова помогают понять изменение его психологического состояния на протяжении романа. Сначала ему снится сон про лошадь, что является предупреждением: Раскольников не сверхчеловек, он способен проявить сочувствие.
В лирике герой непосредственно выражает свои чувства и переживания. Но лирика субъективна, мы видим только одну точку зрения, один взгляд, зато герой может очень подробно и искренне рассказать о своих переживаниях. Но в лирике чувства героя нередко обозначены метафорически.
В драматическом произведении состояние персонажа раскрывается в первую очередь в его монологах, которые напоминают лирические высказывания. Однако в драме XIX–XX вв. писатель обращает внимание на мимику, жесты персонажа, фиксирует оттенки интонации персонажей.
ИСТОРИЗМ литературы – способность художественной литературы передавать живой облик исторической эпохи в конкретных человеческих образах и событиях. В более узком смысле историзм произведения связан с тем, насколько верно и тонко художник понимает и изображает смысл исторических событий. «Историзм присущ всем истинно художественным произведениям, независимо от того, изображают ли современность или далёкое прошлое. Примером могут служить «Песнь о вещем Олеге» и «Евгений Онегин» А.С.Пушкина» (А.С.Сулейманов). «Лирика исторична, её качество определяется конкретным содержанием эпохи, она рисует переживания человека определённого времени и среды» (Л.Тодоров ).
НАРОДНОСТЬ литературы – обусловленность литературных произведений жизнью, идеями, чувствами и стремлениями народных масс, выражение в литературе их интересов и психологии. Представление о Н.л. во многом определяется тем, какое содержание вкладывается в понятие «народ». «Народность литературы связывают с отражением существенных народных черт, духа народа, его основных национальных особенностей» (Л.И.Трофимов). «Идея народности противостоит замкнутости, элитарности искусстьва и ориентирует его на приоритет общечеловеческих ценностей» (Ю.Б.Борев ).
Психологизм - это (от греч. psyche - душа и logos - понятие, слово) способ изображения душевной жизни человека в художественном произведении: воссоздание внутренней жизни персонажа, ее динамики, смены душевных состояний, анализ свойств личности героя. Психологизм может быть явным — открытым (непосредственное воспроизведение внутренней речи героя или образов, возникающих в его воображении, сознании, памяти, например, «диалектика души» в произведениях Л. Н. Толстого, В. В. Набокова) и неявным — скрытым, уведенным в «подтекст» (например, «тайная психология» в романах И.С. Тургенева, где внутреннее состояние персонажей раскрывается благодаря выразительным жестам, особенностям речи, мимики, то есть разнообразным внешним проявлениям психики).
Народность - это отношение литературы к народу, проявляющееся в различных аспектах. Во-первых, народность - это мера взаимопроникновения литературы и фольклора. Литература заимствует из народных произведений сюжеты, образы и мотивы. Иногда случается и наоборот - песни на стихи русских поэтов становятся народными. Во-вторых, народность - это мера проникновения автора в народное сознание, адекватность изображения им представителей народа. Так, например, народной можно считать тетралогию Ф. А. Абрамова «Пряслины», где изображена жизнь северной деревни в годы Великой Отечественной войны и после неё. В ненародных с этой точки зрения произведениях простые люди изображаются неестественно, надуманно. В-третьих, термином «народность» иногда обозначается доступность литературы людям, её понятность для неподготовленного читателя. Народная литература в таком случае противопоставлена литературе элитарной, предназначенной для узкого круга. В современной литературе, особенно в постмодернизме произведение может выполнять две функции.
Историзм - 1. В широком смысле слова - способность художественной литературы точно передавать (воссоздавать) облик и дух исторической эпохи в конкретных человеческих судьбах и событиях. Присущ любому истинно художественному произведению, идет ли в нем речь о современности или далеком прошлом. Придает произведению характер правдивого исторического свидетельства. 2. В узком значении - свойство лучших произведений исторической тематики или исторического жанра. Выражается в способности автора отобразить самобытность описываемой эпохи, показать своеобразие облика и характера персонажей, передать местный колорит описываемого. Получает конкретное воплощение в изображении событий дальнего и недавнего прошлого, исторических деятелей, историко-бытовых, батальных сцен. Характер историзма меняется по мере накопления исторических знаний, роста национального самосознания, развития исторических воззрений.
Допустив систематическую рефлексию, греки начали интеллектуальную авантюру, продолженную другими, в ходе которой ничто не могло остаться в своем прежнем состоянии. Ужас, инстинктивный horror души перед тем направлением мысли, когда все человеческое становится объектом рефлексии и через это потенциально релятивизируется, во всяком случае выводится из сферы "естественного", - испуг этот заявлял о себе через тысячелетия после поры софистов, Сократа, Аристофана и Аристотеля. С. С. Аверинцев.. .Объявление войны всем видам релятивизма является великой и своевременной задачей. Д.фон Гильдебранд Сколько ни гнали из философии злосчастный релятивизм - он все продолжает жить, и жизнеспособность его и заражающая сила, после тысячелетнего бродячего и бесприютного существования, не только не упала, но, по-видимому, возросла. Лев Шестов Проблемы релятивизма сегодня по-прежнему актуальны и не только потому, что они постоянно "возрождаются из пепла", но и по причине нового источника - постмодернистских подходов, широко проникающих и в эпистемологию. Это во всей полноте и многообразии подтверждается тематикой и проблемами докладов, а также дискуссий на ХХ Всемирном философском конгрессе (Бостон, 1998), отразивших все многообразие мнений и позиций. В частности, при обсуждении проблемы "Постмодернизм и истина" главные докладчики Д.Деннет (США) и С.Фуллер (Великобритания) подчеркивали, что сильный скептицизм постмодернизма, принимающий релятивизм как данность, не истребил веры в существование области "бесспорного знания" и даже Р.Рорти признает поиск истины полезным. Проведенная по интернету конференция показала, что в "массовом научном сознании" достаточно определенно выражена позиция признания универсальности научной истины, а под релятивизмом понимается ее отрицание. При этом подчеркивается, что постмодернистский подход, а соответственно и порождаемый им релятивизм, чаще всего определяются не столько когнитивными целями познания объекта, сколько социокультурными, вообще ценностными интересами людей. В дискуссии о "континентальной" и аналитической философии наличие релятивизма или его отсутствие было положено в основу их различения, но в конечном счете выяснилось, что релятивность присутствует, хотя в разных "долях", в основных идеях и истоках обеих этих традиций. Эта мысль кажется вполне правомерной, тем более потому, что К.-О. Апель говорил о "новом дуализме": не "пангерменевтика" или "сциентизм", но взаимодополнительность и опосредствование "континентального" как герменевтического, "понимающего" подхода и аналитического, каузально-номологического объяснения1. Проблема релятивизма в историко-философском контексте Очевидно, что релятивизм, долгие годы пребывавший на "обочине" гносеологических и методологических исследований и олицетворявший препятствие для получения истинного знания, в современной эпистемологии должен быть переоценен и переосмыслен как концептуальное выражение неотъемлемой релятивности знания, его динамизма и историчности. Релятивизм как философская традиция. Известно, что Р.Рорти в ряде работ, где исследуется положение дел в современной философии в целом, эпистемологии в частности, говорит о существовании двух традиций в современной философии, в определенной степени связанных с различием в понимании истины. Одна из них - это традиция Платона - Канта - Гегеля, понимавших движение к истине как движение к верному представлению о мире "как он есть сам по себе" и основу достоверных суждений видевших в чувственных данных и ясных идеях (foundationalism). Другую традицию, рассматривая ее наряду с первой, Рорти обозначает условно как "релятивизм." Тем самым проблема релятивизма обретает общефилософский характер и не сводится лишь к эпистемологическому феномену. К "релятивистам" сегодня относят таких европейских философов, как Витгенштейн, Хайдеггер, Сартр, Гадамер, Фуко, Деррида, и представителей американской философии - Джемса, Дьюи и самого Рорти, а также Куайна, Патнэма, Дэвидсона, Куна. Они не считают себя противниками рационализма и не утверждают, что истины - это всего лишь удобные фикции, но отказываются от "традиционного философского проекта - найти нечто столь прочное и неизменное, что могло бы служить критерием для суждений, .. .от мысли, что существуют некие безусловные, транс-культурные моральные ценности, моральные нормы, коренящиеся в неизменной, внеисторической человеческой природе" . Эта новая традиция предполагает "смену языка" и "способов говорить" (отказ от языка Платона), неприятие старых философских догм, и в первую очередь ставит под сомнение способ мышления в оппозициях субъект - объект, абсолютное - относительное, найденное - сделанное, реальное - кажущееся. Представление о релятивизме как своего рода самостоятельном направлении используют и другие исследователи. Еще в 1938 году американский философ М.Мандельбаум, исследуя проблемы исторического познания, выявил особенности исторического релятивизма, сопоставив подходы трех "исторических релятивистов" - Кроче, Дильтея, Манхейма и четырех "контррелятивистов" - Зиммеля, Риккерта, Шелера и Трельча. Это позволило ему рассмотреть саму природу релятивизма, различные его интерпретации и обратиться к проблеме исторического знания3. Особенность этого исследования состоит в том, что оно осуществлено на материале "континентальной" философии, без ссылки на основоположников прагматизма, вне идеалов и норм аналитической философии, господство которой в США только начиналось. Вместе с тем сохраняется "обаяние истории", традиционное для прагматизма, как и "культурный натурализм", когда проявляется обращение к жизни, опыту, процессу роста, функциональности и контексту. Можно обратиться и к современным монографическим исследованиям, главным предметом которых является релятивизм и где последовательно анализируются разные формы радикального релятивизма и позиции их представителей. Так, американский философ Дж.Ф.Харрис в монографии "Против релятивизма. Философская защита метода", предварительно сформулировав критерии традиционной науки, критически рассматривает взгляды главных представителей традиции релятивизма как отклоняющихся от этих критериев при получении и оценке знания. В "направление" входят: Куайн с его логическим и онтологическим релятивизмом, натурализованной эпистемологией; Н.Гудмен с концепцией "создания миров"; Кун с понятиями парадигмы, научной революции и научного сообщества, а также релятивизм П.Уинча и социальных наук, Гадамера и герменевтики, анти- фундационализм Ч.Пирса4. Мне представляется неточным обозначать это "неклассическое" направление термином "релятивизм", выражающим скорее побочные следствия, а не суть самой этой традиции. Я полагаю, что она не должна быть сведена к релятивизму, это даже не главный ее признак, а следствие самого неклассического подхода, существования двух традиций европейской философии5. Феномен когнитивного релятивизма как он представлен в контексте и идеалах классической рациональности подвергается критике и категорическому неприятию. В представлениях об абсолютной истине, абсолютном наблюдателе, о признании истины как объективного, независимого от сознания, определенного, адекватного знания релятивизм не может быть признан как имеющий право быть. Однако многолетняя борьба с этим феноменом не дает результата, а современные науки и постмодернистские подходы вынуждают признать релятивизм знания как неотъемлемый и значимый момент в познавательной деятельности человека. Очевидно, что сегодня надо не "биться насмерть" с релятивностью, подвижностью, текучестью, неоднозначностью знания, а, встав "лицом к лицу", выявить природу и "неистребимость" этого феномена. Можно предположить, что релятивизм имеет онтологические, эпистемологические, лингвистические, социальнокультурные и исторические предпосылки и основания, которые всегда будут с необходимостью воспроизводить релятивность получаемого знания. В философских исследованиях прошлых лет уже было показано, что релятивизм в качестве своих неизменных предпосылок имеет психологизм и историзм (историцизм) в познавательной деятельности. История их аналитики и "преодоления" - это одновременно и история оценки и осмысления феномена релятивности знания и его концептуального выражения - релятивизма. Оценка релятивизма в немецком историцизме и неокантианстве. Историки философии особо отмечают значение периода второй половины XIX - начала XX века для развитии общей теории исторической рациональности, методологии исторической науки. Крупнейшие немецкие мыслители Дильтей, Зиммель, Трельч, Виндельбанд, Риккерт, Вебер и другие были озабочены этой проблематикой, исходя из различных позиций и по- разному - положительно или отрицательно - толкуя сам термин историзм (историцизм). Исследователи выявили некоторые черты "семейного сходства" идей представителей ис- торицизма, которые, в частности, отвергают попытку применить естественно-научную модель к историческим наукам и, подчеркивая различие между историей и природой, специфический характер исторических событий; стремятся заменить абстрактные обобщения пониманием индивидуального характера исторических событий. Теоретики историцизма обращались не к трансцендентальному субъекту, а к конкретным людям с культурноисторическими особенностями их деятельности и познания. Идеи Канта они распространили на все науки, особенно социально-исторические, вместо каузального объяснения исследовали технику понимания, разрабатывая теорию об общезначимых ценностях как высших, надвременных, внеисторических принципах6. Разумеется, каждый из представителей историцизма вынужден был высказать свое отношение к релятивизму, поскольку последний с необходимостью был следствием реализации принципов историцизма, предполагающего относительность и изменение всех "параметров" познания в историческом времени и сменяющих друг друга событиях. Дильтей, реализуя программу критики исторического разума, понимал последний не как абстрактный "наблюдающий разум", но как исторический субъект, конечный, меняющий принципы и правила в зависимости от времени и социально-исторических условий. Соответственно возникает противостояние относительности, релятивности и общезначимости, объективности. История обнаруживает себя как одна из форм проявления жизни, проблемой "непроницаемости" которой для познания Дильтей был особенно озабочен. Но одновременно проявление жизни предстает как репрезентация всеобщего и понятие "жизненности" объемлет и спекулятивный и эмпирический подходы. Для рационального отображения релятивности Дильтей стремится разработать новые категории, определяющие отношение к жизни через понимание. К ним можно отнести ценности, цели, развитие, идеал, особенно категорию значения, с помощью которой жизнь постигается как целое. По мнению Н.Гартмана, который, как мне представляется, уловил главное, Дильтей "объединил идею чисто описательной исторической науки с идеей "понимания" (das Verstehen) в противовес "понятийному пониманию" (das Begreifen), т.е. предложил метод, в котором понятие означает всего лишь средство для взаимопонимания, неизбежное зло науки, переместив тем самым центр тяжести с образования понятий на интуитивное понимание, которое во многих отношениях приближается к художественному созерцанию"7. Развитие теории исторической рациональности и осмысление феномена релятивизма осуществлялось в рамках баденской школы неокантианской философии. При обращении к этому вопросу здесь, как и в других разделах, я исхожу из принципа, сформулированного в свое время Риккертом: "Кантовский и послекантовский идеализм представляет из себя целую сокровищницу мыслей, далеко еще не исчерпанную, у которой мы можем позаимствовать массу ценных идей, несомненно могущих пригодиться нам при разрешении философских проблем нашего времени" Разумеется, это "заимствование" предполагает самостоятельную рефлексивную оценку. Глава школы В.Виндельбанд одобрял саму идею (и название ее) "критики исторического разума", выдвинутую Дильтеем и полагал необходимым "покончить с односторонностью", унаследованной логикой от греков: закономерности рассматриваются в их движении от общего к частному, и господствуют логические теории исследования природы. Должно прокладывать себе дорогу "более глубокое понимание логических форм истории", как это представлено, в частности, в исследованиях Риккерта. Восстанавливая вслед за Дильтеем "историческую форму идеи развития", Виндельбанд понимает связанные с этим трудности. "Истинной философией такая философия будет, конечно, только в том случае, если генетические исследования психологического анализа, социологического сравнения и исторического развития будут служить лишь материалом для обнаружения той основной структуры, которая присуща всякому культурному творчеству во вневременном, сверхэмпирическом существе разума"9. Коренная трудность состоит в том, что чисто рациональное познание вселенной невозможно, это только видимость, так как невозможно "полное без остатка разложение действительности на понятия разума". В каждой рациональной системе некое "данное" ускользает от познания, основанного только на разуме, оказывается несоизмеримым с ним, не поддается выведению из него. Признал этот факт только критический рационализм Канта. Исследуя систематическое развитие немецкой философии после Канта, Виндель- банд в параграфе об иррационализме прослеживает, как многие видные философы каждый по-своему пытались постичь и рационализировать этот "невыводимый остаток в опыте". Вывод к которому он приходит, неутешителен: "У Якоби этой цели, наряду с чувственным восприятием, служит "разум" как способность восприятия сверхчувственного, у Шопенгауэра - самоинтуиция субъекта, в которой он познает себя как волю, у Шеллинга - откровение, при помощи которого божественная первооснова раскрывает себя в человеческом сознании, у Фейербаха -чувственное ощущение (и добавлю то, о чем он рассуждает в тексте, - антропологизм. - Л.М.). Все эти системы иррационализма представляют собой различные формы эмпиризма. ...Потерпев поражение в своих априорных построениях перед нелогическим остатком, философия духа упала обратно в объятия опыта"10. К этому переходу рационалистических систем в иррационалистические, по Виндельбанду, прибавляется еще "необычайная текучесть и изменчивость понятий", что вполне соответствует психологическому процессу. Но это означает, что философия духа и познания столкнулась с невозможностью не только все рационализировать (и тем более формализовать, как это позже обоснует К.Гедель), но и в полной мере преодолеть релятивизм в его формах психологизма, эмпиризма, историзма. Следует отметить, что психологизму (И.Ф.Гербарта, Я.Ф.Фриза, Ф.Э.Бенеке) Виндельбанд уделяет специальное внимание в последних параграфах рассматриваемой работы. Он делает важное замечание о том, что послекантовская философия стремилась преобразовать критицизм, перевести на "язык эмпирической психологии критический принцип самопознания человеческого разума и сознательно следуя своему методу переместить основные исследования теории познания в антропологический опыт"11. Виндельбанд настаивает на том, что сам Кант психологические предпосылки никогда не выдвигал на первый план, хотя, по-видимому, неявно пользовался скрытым психологическим основоположением, что встречается в великих метафизических системах. "Психологизм постоянно сопутствует метафизическим системам", он "был точкой зрения философии Просвещения и теперь появился снова в качестве формы "метафизического эмпиризма", к которому с разных сторон приводило поражение рационалистической дедукции"12. В немецкой философии XIX века влияние психологизма проявилось также в том, что теория познания свелась к "учению о происхождении и развитии представлений" и постепенно превращалась в психологию. Одновременно "исторический релятивизм" стремился объяснить исторические события и процессы из "личных и общих мотивов соответствующей исторической действительности", т.е. также обращался к психологическому объяснению. И хотя психология тоже не могла гарантировать "нормативные критерии истины" и добра, "именно психологизм оказался удобным основанием для успокоения при меняющихся фактах истории" . Наибольшее проявление релятивизма Виндельбанд справедливо видел в философии Ф.Ницше - "восстание безграничного индивидуализма достигает своей высшей точки в утверждении относительности всех ценностей".Но "релятивизм - это отставка философии и ее смерть. Поэтому она может продолжать существовать лишь как учение об общезначимых ценностях"14. Итак, ошибочно исходить из индивидуальных изменчивых ценностей и затем полностью отвергать их, спасти от релятивизма может лишь признание "общезначимых ценностей" - истины, блага, святости и красоты, которые образуют "общий план всех функций культуры и основу всякого отдельного осуществления ценности", являясь внеисторическими, вообще надвременными. Задача описания их принадлежит философии, она должна определить их значение, поскольку они не факты, но нормы и имеют "законодательную", идущую от разума функцию. Таким образом, релятивизм преодолевается путем отнесения частного знания, поступка, единичного факта к общезначимым ценностям, что придает им значение и вписывает в единую надвременную, внеисторическую систему. Классический подход к релятивизму при анализе обоснования объективности знания представлен также у другого лидера баденской школы - Г.Риккерта, в частности, во "Введении в трансцендентальную философию", где релятивизму посвящен специальный небольшой раздел. Он исходит из того, что мышление в качестве познавания обязательно предполагает долженствование как необходимость в суждении. При этом долженствование носит трансцендентный характер, поскольку только в этом случае оно может быть "ручающимся за объективность предметом". Это обеспечивается тем, что истинность необходимого суждения должна быть признана действительной вне времени и совершенно независимой от всякого познающего субъекта. Итак, "трансцендентное долженствование неотделимо от понятия истины", которое в свою очередь допускает, что мы в несомненных суждениях обладаем истиной. Особенность релятивизма в этом контексте состоит в том, что признаваемое в суждении долженствование не является трансцендентным и зависит от познающего субъекта, соответственно всякая истина понимается как относительная. Это в свою очередь означает, что нет абсолютной необходимости отвечать на вопрос однозначно - да или нет, что всегда возможно и то, и другое, "чувство необходимости" в суждении не имеет значения, а считать истинным то или иное суждение - дело вкуса познающего субъекта. Если существует только относительная истина, то "нет никакой разницы между глупым суеверием и научным исследованием. ...Слово "истина" вообще совершенно теряет свой смысл, который у него есть только тогда, когда одна истина выставляется в противоположность многим индивидуальным мнениям"15. Однако положение об относительной истине достаточно легко опровергается, как полагает Риккерт, несколькими аргументами. Прежде всего защитники гносеологического релятивизма, признающие относительность истины и утверждающие, что нет никакого истинного суждения, сами непоследовательны, так как, отвергая абсолютность истинного суждения, они вместе с тем опровергают и свое собственное утверждение об относительности истины. Даже солипсист имеет право хотя бы свою теорию считать истинной, релятивист лишен такой возможности и поэтому "истинного релятивиста никогда и не было". "Кто утверждает что-нибудь, то этим предполагает, что истина существует"16. Или, возможно, релятивисты правы, когда они признают истину как воззрение большинства людей, выросших при одних и тех же условиях, как истину рода, различая истинное и ложное с помощью количественного критерия. Но в таком случае не было бы необходимости в трудных поисках истины многими учеными-одиночками, истину "находили" бы и обосновывали с помощью голосования большинства. Наконец, следует отметить еще один значимый случай: когда мы имеем дело с истиной простого констатирования фактов в исследовании, тогда вообще не имеет смысла говорить об относительности истины, она здесь явлена во всей своей очевидности, что релятивизм не может не признать. Анализируя релятивизм, Риккерт исходит из того, что возможны различные ошибки и заблуждения познающего, но "одно суждение не может быть ложным - суждение, что ценность истины абсолютно действительна. Это достовернейшее суждение, какое мы можем представить себе, потому что оно есть условие всякого суждения"17. Таким образом, проблема релятивизма разрешается и "преодолевается", поскольку признается доказанным, что теоретический субъект находится в зависимости от необходимости в суждении, а само трансцендентное долженствование есть условие всякого суждения, независимо от гносеологической концепции, в том числе включающей скептицизм. Соответственно в этом случае решать проблемы релятивизма предлагается с помощью перехода на трансцендентальный уровень, что, как очевидно, оставляет "за бортом" многие ситуации, в частности, исторического релятивизма. Мне представляется, что в своей системе рассуждений - в понимании трансцендентного долженствования, относительности истины, истины рода (общезначимости), суждений факта - Риккерт вполне убедителен, однако сами "опоры" его концепции при критическом рассмотрении оказываются не столь уж прочными и безусловными. Трансцендентное долженствование предполагает предельно абстрактные и искусственные условия познания - его независимость от времени и человека, что не соответствует реальному познавательному процессу. Относительность истины истолковывается иначе в других концепциях, например, в диалектико-материалистической, где она понимается не как субъективный произвол, но как незавершенность и неполнота, т.е. рассматривается в развитии, пределом и целью которого предстает абсолютная истина. Суждения факта коррелятивны методам их получения и интерпретируются в контексте той или иной теории, отсюда их истинное значение неоднозначно. Наконец, проблема истинности как общезначимости (истины большинства, рода) существенно усложняется в контексте интерсубъективности, признания коммуникативной природы познания и социокультурной обусловленности направлений поиска и способов решения проблем в условиях выбора. Все это говорит о том, что исследование проблемы релятивизма должно было быть продолжено. Но не менее значимы для обсуждения проблемы релятивизма такие базисные темы работ Риккерта, как философия и логика исторической науки (историю он рассматривает вслед за Виндельбандом как индивидуализирующую науку в отличие от генерализирующего естествознания), учение о теоретических ценностях и аналитика философии жизни. Это именно те сферы познания, где коренятся условия возможности психологизма и релятивизма. Во всех трех комплексах проблем он, как известно, предлагает свои решения, анализ и оценка которых продолжается и сегодня. Что касается историцизма, то, по мнению Риккерта, философия должна одинаково бороться с односторонностью как натурализма, так и историцизма. Динамика идей Гуссерля: психологизм, релятивизм, историзм. Как образно определил Л.И.Шестов, "Риккерт, как и Гуссерль, всеми силами старается отбиться от когтистого зверя релятивизма, беспощадно скребущего ученую совесть философствующего человека" 1 . Однако Г уссерль исследует проблему более обстоятельно, а в последние годы жизни - не только на логико-методологическом, но и на общефилософском уровне. В первой части "Логических исследований" Гуссерль рассматривает релятивизм в соотнесении со скептицизмом и психологизмом, который и есть, по существу, во всех своих проявлениях не что иное, как релятивизм, хотя и не всегда распознанный и явно признанный. Он различает два вида релятивизма - индивидуальный и специфический, которым сразу же дает критику. Индивидуальный релятивизм очерчен известной формулой Протагора "человек есть мера всех вещей", которую Гуссерль толкует в том смысле, что истинно для всякого то, что ему кажется истинным, всякая истина и познание в целом относительны (гипотетичны) в зависимости от суждения индивидуального субъекта. Это явный релятивизм и почти "наглый скептицизм", который утверждает истину только для самого себя, а не саму по себе, что опровергается уже будучи высказанным, если исходить из объективности всего логического. Специфический релятивизм берет за основу не отдельного индивида, но человека как такового, как "форму общечеловеческой субъективности", в частности, антропологизм. Для каждого "вида судящих существ" истинно то, что истинно сообразно их организации и законам их мышления и ложно для существ иного вида. Но это неприемлемо, поскольку одно и то же суждение не может быть одновременно и истинным и ложным. "Что истинно, то абсолютно, истинно "само по себе"; истина тождественно едина, воспринимают ли ее в суждениях люди или чудовища, ангелы или боги. Об этой истине говорят логические законы, и мы все, поскольку мы не ослеплены релятивизмом, говорим об истине в смысле идеального единства в противовес реальному многообразию рас, индивидов и переживаний"19. Гуссерль подвергает критике специфический релятивизм и релятивизм в более широком смысле слова, обнаруживая различного рода противоречия. В частности, он указывает на ошибки в рассуждении в нескольких случаях: когда изменяется смысл слова "истина", но сохраняется притязание говорить об истине в том смысле, который установлен логическими принципами; когда смешивается суждение как содержание суждения, т.е. как "идеальное единство", с единичным реальным фактом суждения; когда логические принципы выводят из фактов, которые "случайны", и законы становятся относительными, зависимыми от обосновывающих их фактов. Ошибки в рассуждении, как известно, возникают также вследствие многозначности и неопределенности логической терминологии, что может порождать "жалкие эквивокации", двусмысленности по отношению ко всем логическим терминам, в частности, таким, как законы мышления, форма мышления, реальная и формальная истина, представление, суждение, понятие, основание, необходимость и др. В целом, по Гуссерлю периода "Логических исследований", "всякое учение, которое либо по образцу эмпиризма понимает чисто логические законы, как эмпирически- психические законы, либо по образцу априоризма более или менее мифически сводит их к известным "первоначальным формам" или "функциональным свойствам" (человеческого) разума, к "сознанию вообще", как к (человеческому) "видовому разуму", к "психофизической организации" человека... - всякое такое учение eo ipso релятивистично, и именно принадлежит к виду специфического релятивизма"20. Представителями такого релятивизма как крайней и последовательной форме психологизма Гуссерль называет Милля, Бэна, Вундта, Эрдмана, Липпса и Зигварта, которому, как и Эрдману, он уделяет особое внимание за господствующие в их логике психологизм и релятивизм. При обсуждении понятия истины у Зигварта выясняется, что для него истина сводится к переживаниям, которые "суть реальные единичности, определенные во времени, возникающие и преходящие". Но истина сверхвременна и не имеет смысла указывать ей место во времени, приписывать "простирающуюся на все времена длительность". Таким образом, Гуссерль вводит еще один "параметр" релятивизации истины - время, настаивая на том, что истина есть единство значения в "надвременном царстве истины", она принадлежит к области абсолютно обязательного, основанного на идеальности. В идеальном смысле логика возвышается над всем эмпирическим и каждая истина сохраняет свое идеальное бытие. "Если бы истина имела существенное отношение к мыслящим умам, их духовным функциям и формам движения, то она возникала и погибала бы вместе с ними, и если не с отдельными личностями, то с видами. Не было бы ни настоящей объективности, ни истины, ни бытия, ни даже субъективного бытия или бытия субъектов"21. Существует коррелятивность категорий истины и бытия. "Нельзя релятивировать истину и удержать объективность бытия. Релятивирование истины, впрочем, предполагает опять-таки объективное бытие, как опорную точку отношения - в этом, ведь, и состоит противоречивость релятивизма"22. Преодоление релятивизма предполагает, по Гуссерлю, обязательное различение идеальных логических понятий и принципов, не высказывающих ничего реального, и логики, например, у Эрдмана, как учения о "законах мышления", имеющих реальное содержание и меняющихся вместе с человеческой природой. В дальнейшем, как известно, за пределами "Логических исследований" основоположник феноменологии придет к необходимости выхода к "чистому сознанию", еще большего "очищения" от реальной естественной установки, выведения за скобки всего мира вещей и людей методом феноменологической редукции. Отношение к эмпирическому, психологическому и, соответственно, к релятивному стало еще более определенным: "эмпирическому (реальному психологическому) переживанию человека в мире как предпосылка его смысла противостоит абсолютное переживание"; личность, ее свойства и переживания "можно созерцать, постигать в опыте, научно определять на основе опытного постижения - и все же они только интенциональны и тем самым лишь "относительны". Полагать же их сущими в абсолютном смысле противосмысленно" . Наиболее обстоятельное обсуждение гуссерлевского способа решения проблемы релятивизма осуществил, как известно, Л.И.Шестов в работе "Memento mori", написанной по поводу "Логических исследований", теории познания Гуссерля этого периода. Шестов напоминает, что уже Аристотель как общеизвестную истину признавал внутреннее противоречие релятивизма (допускается как абсолютно истинное положение, не признающее абсолютно истинных положений), тем самым уничтожающего самого себя. Гуссерль, по Шестову, беспощадно разыскивает следы релятивизма во всех современных теориях познания и проявляет в этом отношении настойчивость и последовательность, полагая специфический релятивизм столь же абсурдным, как и индивидуальный. Он четко разводит генетические и логические вопросы теории познания, сознательно отвлекаясь от происхождения истины, тем самым предотвращая психологизм и релятивизм. Как и неокантианцы, он не может "проверять притязания разума изысканиями о его происхождении". Его безусловный рационализм в "Логических исследованиях" основывается, как считает Шестов, на принципиальных положениях: теория, исключающая всякие теории, бессмысленна; гносеологическая точка зрения противостоит психологической и лучше бы устранить всякую теорию познания, поскольку разум не нуждается в оправдании, а сам все может оправдать; идеальные предметы входят в одну категорию с реальными по общему признаку - бытию, или существованию. Если эти положения принять, то психологизму (соответственно и релятивизму) придется навсегда покинуть область философии, где "воцарится царство абсолютных истин". В целом вопрос формулируется жестко и альтернативно: "Либо разум человеческий имеет возможность высказывать абсолютные истины, которые равно обязательны и для людей, и для ангелов, и для богов, либо нужно отказаться от философского наследия эллинов и восстановить в правах убитого историей Протагора"24. Шестову, который был одновременно и антиподом и близким Гуссерлю человеком, восхищающимся его смелой, бескомпромиссной и острой постановкой проблемы, не кажется, что ответ на этот вопрос абсолютно предопределен. Времена изменились, и философов и ученых не может удовлетворить ни специфический релятивизм Зигварта, ни "безудержный рационализм" Гуссерля. Жизнь не вписывается в равно для всех приемлемые суждения и традиционные приемы обоснования. Здесь-то и обнаруживается, что Шестов вовсе не собирается соглашаться с Гуссерлем. Его волнует вопрос: "Действительно ли, если мы признаем, что наша истина есть человеческая (курсив мой. - Л.М.) истина, мы этим внесем в свои размышления элемент, который сделает их ни к чему не нужными, обратит их в пустые звуки?". Но почему же тогда релятивизм, признающий человеческую истину, существует тысячелетия и видные мыслители продолжают общаться с этим "закоренелым грешником", столько раз испепеленным, но всегда, как феникс из огня, возрождающимся? Впрочем, Гуссерль не может ставить такой вопрос, поскольку "весь характер его философских устремлений возбраняет ему считаться с действительностью и историей как с факторами совершенно независимыми. Для него, признающего примат автономного разума, действительность всегда уходит на второй план. Он заранее вполне убежден, что всякий факт должен уложиться в умозрение, ибо умозрение обладает всей чистотой априорности..." . Возражая Шестов приводит немыслимые для "чистого сознания", но соответствующие действительности аргументы: существуют различные состояния реального сознания - опьянение, сновидение, экстаз, когда "очевидность", выдвигаемая Гуссерлем как "последняя инстанция", изменяется по своей природе и "логика" сновидений, экстаза вступает в свои права. В реальной жизни мы тоже не всегда вправе делать "заключения из следствий", бояться противоречивых суждений, есть некоторая граница, за которой человек руководствуется уже не общими правилами логики, а чем-то иным, и от априорных истин вынужден отказываться. В таком случае возможно согласиться с Зигвартом и Эрдманом, которые релятивизм выводят за скобки рассуждения, а предпосылки такой ситуации ясно и отчетливо формулируют. В конце концов, человек, абсолютизирующий истину, не в меньшей опасности, чем человек, релятивизирующий ее. Шестов обнажает проблему, имманентно присущую не только гуссерлевской концепции, но и традиционной теории познания, имеющей дело не с реальным познанием реального мира, но с миром идеального автономного разума, - "сознания вообще" или "гносеологического субъекта", декретирующего свои собственные законы. Это - та самая концепция "автономии теоретической сферы", которую опровергает К.Мангейм, обосновывая историзм; это - тот самозаконный мир, несколько позже названный М.М.Бахтиным "миром теоретизма", который не озабочен отношением к реальному миру и познающему человеку. Как автономный, самодостаточный разум искусственного мира он и не предназначен для познания действительности, она становится его "врагом", провоцирующим такую "чистейшую нелепость", как психологизм и релятивизм. Отсюда Шестов приходит к "крамольному" (или, привычнее, к иррациональному, ницшеанскому) выводу: "Никакая наука - это признает и сам Гуссерль - не справится с капризной и непостоянной действительностью. Наука находит только то, что сама принесла в действительность, ей подчинено только неизменное. она свободно хозяйничает только в той области, которая ей принадлежит, т.е. в области, где творцом является сотворенный, т.е. сам человек"26. Итак, если абсолютизируется идеальное, то релятивизируется и даже уничтожается всякое реальное, тем самым полностью игнорируется то обстоятельство (понимаемое, по- видимому, и самим Гуссерлем), что наши идеи о закономерностях, разумных связях, вечных смыслах - чисто эмпирического происхождения, что и "дважды два - четыре" тоже не может существовать, если нет человеческого сознания. Более того, приходится признать, что "идеальные сущности как раз и суть преходящие сущности, и никакие доводы и аргументы разума не предохранят их от неминуемого тления"27. Признать все эти положения - значит признать неизбывность релятивизма, в чем Шестов безусловно прав, а его аргументы могут быть признаны и сегодня. Очевидно, что решение проблемы преодоления психологизма и релятивизма на пути освобождения сознания и разума от реального человека и мира - это путь трансцендентальной философии, выявившей богатейшие возможности мира абстракций и идеализаций, но утратившей целостного познающего человека. Как известно, и сам Гуссерль позднего периода осознал неудовлетворительность, неполноту и односторонность такой позиции и, преодолевая объективизм и натурализм в познании, вновь ввел человека и "жизненный мир" в основания научного знания, понимая, что "столь же не чужда и повседневная жизнь человечества истине как цели и задачи, хотя истина и обнаруживается здесь лишь в своей обособленности и релятивности" . Мне представляется, что вся философия должна пройти путь Гуссерля, осознав, что сведение "человеческого измерения" в познании (сознании) только к психологическому (психическому) и толкование релятивизма только на этой основе существенно обедняют и даже искажают саму проблему истинного познания. С введением "жизненного мира" и осознанием присутствия человеческих смыслов в основании науки Гуссерль, по существу, признал объективную значимость культурно-исторических и социально-психологических параметров познания, хотя и остался противником психологизма в традиционном (индивидуально-психическом) смысле. Я не могу согласиться с той точкой зрения, что "критика релятивизма и скептицизма, предпринятая философом в "Логических исследованиях", может быть обращена к собственным его поздним работам" . Полагаю, что Гуссерль осознал неполноту и односторонность категорического антипсихологизма, различил оттенки смыслов самого психологизма, традиционно вбиравшего в себя все внетеоретические и внелогические образования, а также выявил возможности "непсихологического" подхода к таким явлениям сознания как переживания. Это специально отмечает Н.В.Мотрошилова, полагающая, что сегодня вопрос о "психологической" непоследовательности Гуссерля периода "Логических исследований" уже не так очевиден. "К концу ХХ в. стало более ясным, что даже логика (скажем, в ее математизированном, лингвистическом вариантах), а тем более теория познания обнаружили потребность, во-первых, в соединении анализа знания, сознания и познания, а во-вторых, в типологизации процессов сознания.. ,"30. Одновременно возникла потребность сущностного изучения разных форм сознания (переживания), не совпадающего с "собственно психологическим подходом". Последние работы Гуссерля лежали уже в русле иного, более тонкого и дифференцированного понимания эмпиризма, психологизма и релятивизма. В этот период менялась и сама постановка проблемы истины и ее релятивности, поскольку были осознаны их экзистенциальные смыслы и несводимость (нередуцируемость) к формализованной логике и феноменам "чистого сознания". Гуссерль пересмотрел и свое отношение к Дильтею, его идеям, о чем говорит, в частности, их переписка в последний год жизни Дильтея. Изменилось и его отношение к истории, историзму и даже историческому релятивизму. Во времена "Логических исследований", когда историческая проблематика подвергалась трансцендентальной редукции, теория познания Гуссерля, как неодобрительно отмечал Шестов, предъявляла свои права не только на естественно-математическое знание - она стремилась давать предписание и истории, при этом резко осуждался как "научное грехопадение" историцизм Дильтея, переходящий в "крайний скептический субъективизм", когда идеи, истины, теории науки теряют их абсолютное значение, а всем, кто принимает такой релятивизм, "место в сумасшедшем доме". Однако отношение Гуссерля к историзму менялось на протяжении всей его жизни, он стремился разрешить конфликт между трансцендентальной философией и "исторически ориентированной" философией, о чем писал, в частности, в письме к Р.Ингардену, настаивая на важности и необходимости нового подхода к истории, критикуя традиционную эпистемологию, игнорировавшую исторический 32 подход. Дискуссии по этому поводу все еще продолжаются, и чаще всего их участники, доказав изменение отношения Г уссерля к историзму, по существу, стремятся приложить все усилия к тому, как это сделал Д.Карр, чтобы никто не заподозрил родоначальника феноменологии в релятивизме33. Но, как мне представляется, Гуссерль, действительно не будучи причастным к вульгарной форме релятивизма, видит за феноменом исторического релятивизма реальную фундаментальную проблему. Следует отметить, что главную работу его последних лет - "Кризис европейских наук и трансцендентальной феноменологии", которая имеет подзаголовок "Введение в феноменологическую философию", он характеризует как "телеологически-историческую рефлексию", тем самым признавая необходимость инкорпорировать историческую ориентацию в трансцендентальную философию. В "Венском докладе" - части "Кризиса" - Гуссерль настаивает на том, что это - "кажущееся крушение рационализма", что "речь идет не об обновлении старого рационализма, который был абсурдным натурализмом, вообще неспособным понять стоящие перед нами духовные проблемы", но о радикальном самопознании духа "в форме универсально ответственной науки, развивающейся в новом модусе научности, где находят себе место все мыслимые вопросы - о бытии, о нормах, о так называемой экзистенции"34. В "Начале геометрии" - третьем приложении к "Кризису", знаменующем период, когда "история сама ворвется в феноменологию, откроется новое пространство вопроша- ния" и реализуется "новый подход к истории", как эмпирической истории, так и истори- цизму, традиция истины станет пониматься как "наиболее глубокая и наиболее чистая история". Отмечая это во "Введении", Деррида прослеживает логику изменений: "С тех пор, как феноменология освободилась как от расхожего платонизма, так и от историцистского эмпиризма, движение истины, которое она хочет описать, есть движение конкретной и своеобразной истории, чьими основаниями являются акты темпоральной и творческой субъективности, базирующиеся на чувственном мире и жизненном мире как мире культуры" . С ростом материальной детерминации, релятивизм расширяет свои права, но поскольку он в высокой степени зависим, то никогда не сможет, по Гуссерлю, стать "последним словом научного познания". Теперь осознание науки как традиции или культурной формы и означает осознание ее интегральной историчности, а преодоление исторического релятивизма - это уже не столько истина и идеальные нормы науки и философии, сколько проблемы самой исторической науки. Отмечу также, что если в "Логических исследованиях" Гуссерль разводил генетические и логические вопросы, сознательно отвлекаясь от происхождения истины, знания в целом во избежание психологизма и релятивизма, то в "Начале геометрии" проблемы становления перво-геометра и геометрии, исторического априори становятся центральными. Теперь он приходит к принципиально иному выводу: "Конечно, теория познания никогда не воспринималась как своеобразная историческая задача. Но именно это мы ставим в упрек прошлому. Господствующая догма о принципиальном разрыве между теоретико-познавательным прояснением и историческим (включая и гуманитарно }